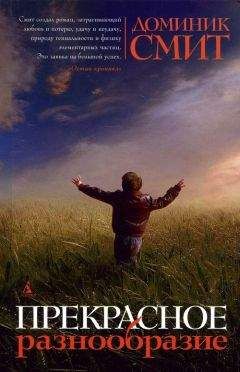Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
— А ты, дурак, руку жжешь…
Йонас криво улыбнулся, положил руку мне на голову, сильно встряхнул.
— Не серчай, — произнес он тихо.
Я не серчал, только до смерти хотел спать. Как ни держался, как ни старался я, а голова клонилась, веки смыкались. И когда я, внезапно вздрогнув, подскочил, Йонаса уже не было в чулане. Место его на кровати осталось нетронутым. Висел лишь кожух на перегородке, а под кожухом лежали брошенные деревянные башмаки. Сердце у меня екнуло при виде этих деревяшек: как будто живой человек шел, устал и остановился. Подбежал я к окну, огляделся. Уже светало. Поодаль от других построек чернела рига с растворенными воротами, ближе к риге льняное сушило, которое поставили несколько дней назад Йонас с хозяином… под сушилом белело что-то, чего здесь не было вчера вечером.
В одной рубахе бросился я на двор, подбежал ближе. Это был Йонас.
Лежал он навзничь, неловко заведя за спину правую руку; левой держался за жердь сушила. Покрытый росой конец оборвавшейся вожжи глубоко врезался в его шею. Лицо посинело, глаза широко открыты, смотрят куда-то мимо меня вверх… Стало быть, неправда это, будто удавленники страшные, как, бывало, говорил старик Алаушас, как говорила моя мать. Вовсе не правда! Вот и ветерок подул — прохладный, мирный утренний ветерок, пахнущий росой и испарениями земли, взъерошил волосы Йонасу, и опять кругом все тихо, мирно, и заря уж разгорелась, охватила полнеба…
Один бог ведает, по каким путям-дорогам летела весть о смерти Йонаса. Не успело взойти солнце, не успел день наступить, а с хуторов уже бежали перепуганные женщины, шагали мужчины, свертывая цигарки из листового табака. Нахлынули, набежали — полон двор народу. Даже дряхлые старики приползли, опираясь на яблоневые посошки. Старая Розалия ломала руки перед всеми, в десятый раз рассказывала, как несколько ночей подряд собака выла, предвещая несчастье, как в дупле гукал филин и как трещал в избе стол, как она не могла ночью заснуть, даже несколько раз выходила во двор узнать, не случилось ли что…
— Такой позор, такой позор всему дому! — повторяла она после каждого рассказа.
Прикатил и хозяин в своей тележке. С побагровевшими щеками, с взмокшими волосами, а уж сердитый, а уж несчастный какой! И не один прикатил. Рядом с ним на рессорном сиденье покачивался одетый по-городскому человек с кожаной сумкой под мышкой, а на передке, куда хозяйка перед отъездом укладывала пироги, сидя поперек, далеко отставив длинные ноги, трясся полицейский — тоже подвыпивший и красный, заломив на затылок высоченную шапку. Он первым выскочил из тележки, отогнал людей от Йонаса и вытянулся в струнку перед человеком с кожаной сумкой.
— Пожалуйте, господин инспектор. Все готово!
Хозяин поставил лошадь у хлева и поспешил на место происшествия, где уже стояли приехавшие с ним.
— И что ты скажешь! — злобно глянул он на лежащего Йонаса. — Хоть бы до осени подождал! Где я теперь батрака возьму об эту пору! А уж слава, слава какая пойдет!
Обошли они трое вокруг Йонаса, остановились в ногах.
— Да-a, — протянул горожанин. — Дело ясное, и злого умысла здесь нет. Ну, что же, акт все-таки придется составить, свидетели распишутся.
— Пожалуйте в избу, — изогнул спину хозяин. — Там стол есть, гладкий, хороший стол!
Вошли в избу, заперлись там один на один, даже старую Розалию выпроводили. Лишь спустя изрядное время хозяин опять показался на дворе, заметно повеселевший, позвал Розалию:
— Иди в избу, мать. Подай там на стол гостям чего получше, квасу налей… бутылку я уж поставил, когда надо будет — другую поставь. Займись с ними, покуда я управлюсь.
Запряг в телегу приведенную с клеверища другую лошадь, на которой еще вчера Йонас возил навоз, бросил в нее беремя соломы, положил лопату, С помощью соседей взвалил туда Йонаса прямо с оборвавшейся вожжой на шее, а чтобы было на что сесть, вытащил из днища телеги одну доску, положил ее поперек грядок и уселся, обхватив ногами труп. Подхлестнутая лошадь бойкой рысцой побежала к лесу.
Так и не стало Йонаса, самого доброго для меня человека в этом доме. Лишь по-старому висел его кожух на перегородке чулана, а под ним лежали его деревяшки с растоптанными задниками и будто говорили, что проходил здесь живой человек, устал и остановился… А я проспал и не видел, как Йонас устал. Ничего не видел…
Вернувшись из леса, хозяин опять пересел в тележку на железном ходу. Вместе с ним сели инспектор и полицейский. Старая Розалия, видать, поставила им в избе не то что другую, но и третью бутылку, потому что оба выписывали ногами кренделя и долго маялись возле тележки, покуда не взгромоздились на нее.
Покатили обратно на свадьбу.
Гоню я стадо в лес и все не могу понять, отчего трава на обочине так сухо шуршит под ногами. Росы — ни следа. В воздухе беспокойно мечутся вороны, каркают и не решаются отдалиться от леса. Солнце всходит какое-то желтое, сонное, прикрывается редкими клочьями облаков. А с запада уже наползают черные, густые тучи. Едва добрался я до опушки, как начало накрапывать.
Лес заплакал.
Большие, прозрачные его слезы дрожали на каждой веточке, на каждом листке, текли по ломкому стеблю таволги, заставляли лосниться ивы, собирались на годовых побегах сосен и долго свисали с кончиков хвои, а потом падали, глухо шлепаясь на белоус. Замолкли птицы, попрятавшись под навес листвы, утих ветер в верхушках деревьев. Все будто слушали, как плачет лес.
И лишь далеко-далеко, где-то на другом краю леса, кликал Стяпукас, не уразумев, где я и в какую сторону гнать стадо, чтобы сойтись вместе. Он, верно, и не знал, что Йонаса уже нет и что теперь нужно молчать, а не кликать на весь лес. Я ему, конечно, скажу. Только не теперь. Не сейчас.
Я юркнул в молодую поросль, затопившую широкую вырубку. Тут, среди молодых сосенок, окруженный плауном и брусничником, стоял пень долголетней сосны. Лоснился он вымытым досиня срезом, испещренным желтыми мелкими бугорками выступившей смолы, глубоко запустил в землю свои омертвевшие корни. Сел я на него. Глухо шлепал дождь по листве, бесшумно прорывали мох сыроежки и подосиновики, ломясь на дневной свет… Побуду здесь один, посижу, послушаю, как скотина разбредается по чаще, как она щиплет траву, вереск, клейкие листья молодых березок. Нужно побыть…
Но Стяпукас, видимо, не знал о моих желаниях. Его оклики раздавались все ближе и ближе, а вскоре и сам он вылез из кустов. Вылез и удивился, очутившись передо мною.
— Хорошо все-таки, — сказал он, улыбаясь.
— Что хорошо?
— Что крещеный был.
— Кто?
— Да Йонас. Теперь ему очень хорошо…
Я даже вздрогнул от неожиданности. Это Йонасу-то хорошо?
— Дурак! — крикнул я Стяпукасу. — Йонаса на свете больше нет, а ты… дурак ты!
Стяпукас заморгал часто-часто, словно ему в глаза попала ячменная ость.
— Когда умерла Салюте, мама сказывала, что ее душенька теперь будет летать и летать, и все не найдет места… — начал он объяснять.
— Какая Салюте?
— Да моя сестра. Ее окрестить не успели. А Йонасу что? Йонас крещеный. Он теперь на небе. Теперь ему очень хорошо… — опять вспомнил Стяпукас. — Очень хорошо… — И тут же добавил куда более сердито: — А ты меня дураком обзываешь.
Поднялся я с пня, подошел к Стяпукасу. Он стоял молча, опустив глаза, лишь его покрытый пушком подбородок дрожал частой дрожью.
— Стяпукас, ты не серчай, ладно?..
Стяпукас сразу просиял, оглянулся по сторонам, а потом вдруг протянул руку и показал куда-то в чащу:
— Вон, видишь? Идет твоя мама. Я тогда побегу!
И быстро исчез в чаще.
Я обернулся и на самом деле увидел идущую лесом мать. Она шла не спеша, так же повернув голову, как когда-то сидя за куделью, и улыбка у нее была такая же, и деревянные башмаки те же, и… И куда девалось все мое мужество, словно ветром развеяло: подбежал я к ней, поцеловал загрубелую ее руку и заплакал.
— Мама, а Йонаса уж нет…
— Знаю, сынок, все знаю. Потому и пришла, чтобы тебе не быть одному. Ты не плачь, — говорила она ровным, спокойным голосом. — Сядем вот, — подтолкнула она меня назад, к пню. — Расчудесный лес! — сказала, улыбаясь. — Шла, всю дорогу смотрела, хоть и дождик, а будто в костеле… И ты такой большой стал, вытянулся, похорошел, прямо не верится, что мой сын! — весело говорила она. — Только нос очень лупится. А уж волосы, волосы! — провела она ладонью по моей голове. — Так никто и не постриг?
— Эта Аделя — ведьма! — злобно сказал я, протирая кулаком глаза. — Кабы я повстречал ее, я бы ей…
— И ножницы я принесла, как знала, — прервала мои угрозы мать. — Ты сядь, живо остригу. Не шевелись, не то ухо отхвачу.
Вынула из кошелки ножницы, лоскут старого холста, чтобы прикрыть плечи. А потом опять порылась на дне кошелки и вытащила оттуда вовсе уж неожиданную вещь: два куска сахару.